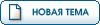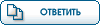Начало » Общение » Задушевные беседы » Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89214 является ответом на сообщение #88767] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89214 является ответом на сообщение #88767] |
Пн, 02 Июнь 2008 11:40   |
Gala
Сообщений: 2162
Зарегистрирован: Май 2007
Географическое положение: Москва
Карма: 0
|
Мне тут нравится |
|
|
IrinaS писал(а) Сбт, 24 Май 2008 13:02А как вам Туве Яннсон и ее рассказы о мумми-троллях? Т.е. если вам сразу вспоминаются мультики, то могу уверить, что сама книга -- нечто другое. Она ИМХО с трудом может называться детской. Это такая взрослая вещь, особенно рассказ о невидимом ребенке. Я ревела, когда читала. Самое интересное, что Туве Янссон не была писателем, она была скульптором. Ее писательство было просто попыткой дополнительного заработка, не более. И слава Богу за то, что она эту попытку предприняла.
Ириш, книга про мумми-троллей - одна из моих любимых. И иллюстрации там суперские
[Обновления: Пн, 02 Июнь 2008 11:41] Известить модератора |
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89551 является ответом на сообщение #79193] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89551 является ответом на сообщение #79193] |
Вт, 03 Июнь 2008 10:44   |
Солана
Сообщений: 7847
Зарегистрирован: Ноябрь 2007
Географическое положение: Москва.
Карма: 0
|
Мне тут нравится
Светлана |
|
|
|
Леонид Андреев.
ЖИЛИ-БЫЛИ.
I
Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву
лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в
университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в
швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную
пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье с черной
меткой "Палата Љ 8" и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича
мала, и нянька пошла искать новую.
- Уж очень вы велики! - сказала она, выходя из ванной, в которой
производилось переодевание больных.
Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и,
наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую,
отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на
коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое
тело, но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось
ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь
он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его
привычное платье, и готов был делать все, что прикажут.
Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича
оставалось еще несколько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он
послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку,
собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув
голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за
нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так
нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда
ведут старшие, - может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему
узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом
няньке, хотя дома, в Саратове, сани его суровый взгляд заставлял судорожно
метаться десятки людей.
- Вот ваше место, - указала нянька на высокую, чистую постель и
стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место,
только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью
человеку. Тбропливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял
халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневило и
мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в
одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы:
неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы
алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в
Москву, - и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну
тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и
покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними
мелькнули в его полузакрытых глазах снежнобелые стены, луч солнца на одной
стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.
На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на
черной дощечке: "Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля".
Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в
восьмой палате; на одной стояло: "Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.", на
другой - "Студент Константин Торбецкий, 23 лет". Белые меловые буквы
красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал
навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем и
приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой
сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича
свешали, - оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту
цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:
- Вы самый тяжелый человек на все клиники.
Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший, как доктор, так
как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в
ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые
больные на ободрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не
улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и
массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, бмли стиснуты, как
железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он
уже давне, чежду прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой
лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось
переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям,
фельдшер - звали его Иваном Ивановичем - решил со временем попросить у
купца как"ю-нибудь ею собственноручную записку, чтобы по характеру почерка
сделаш более ючное определение его дчшевных свойств.
Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали
доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно
важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по
два, иногда одни, а чаще в сопровождении студентов. По требованию
докторов, Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился
на постель, возвышаясь на ней огромной мясистою грудой.
Доктора стукали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали,
перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те
или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича
о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из
его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и
много работал; и при каждом новом "много" Лаврентий Петрович все менее
узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам.
Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов,
поступал так нехорошо и вредно для себя.
И все старые слова: водка, жизнь, здоровье - становились полны нового и
глубокого содержания.
Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие
докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили
его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса
рассматривание его тела. С сознанием важности производимого ими дела они
вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он
перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее
принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для
всех и всем подчинено.
По приказанию нянек он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за
стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали
его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при
всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство
глубокого одиночества.
Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и
все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для
долгого житья.
От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло
холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух
слишком ровен, - в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то
особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же
он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда
внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но,
когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это
были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге.
Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры
и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они
телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.
- Когда у вас бывают приемные дни? - спросил Лаврентий Петрович няньку.
Он говорил коротко, не гляда на того, к кому были обращены слова.
- По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в
другие дни, - словоохотливо ответила нянька.
- А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?
Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо,
обрадовал угрюмого больного, И весь этот день он был немного веселее и
хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что
весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.
Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день
раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех
пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при
раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все его
слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего
несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые
и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки
выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными
чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов
фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и
нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на
некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон,
как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей
семье и о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том
же других, что ничто не мог сердиться, и все так же откровенно
рассказывали.
Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издалека кричал веселым голосом:
- Исполнение желаний! За милую душу! - и кланялся.
К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал
себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их
посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал
выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили
время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он
всех поздравлял: в четверг - с четвергом, в пятницу - с пятницей, и, что
бы ни творилось на воздухе, которого он не видал, он постоянно утверждал,
что погода сегодня приятная на редкость. При /этом он постоянно и радостно
смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому
животу, хлопал руками по коленям, а иногда даже бил в ладоши, И всех
благодарил, - иногда трудно было решить, за -что. Так, после чая он
благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.
- Так это мы с вами хорошо чайку попили, - понебесному! Верно, отец, а?
- говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании
составлять не мог.
Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три
года тому назад, а раньше был псаломшиком. И у всех - и у больных и у
приходящих - он спрашивал, какого роста их жены.
- А у меня жена очень высокая, - с гордостью говорил он после того или
иного ответа. - И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!
Все в клиниках - чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в
коридоре - вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на
икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и,
когда слов не хватало, восклицал:
- За милую душу! Вот как перед богом, за милую душу!
Третьим больным в восьмой лалате был черный студент Торбецкий. Он почти
не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со
скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и
изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у
изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов,
когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным
чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но
случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно
было сказать шепотом: "Радость моя!" - "Я люблю тебя"; иногда они подолгу
молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом.
Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а
Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прйщурениые глаза,
как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно
изминало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и
двигались.
И с тою же холодною отчужденностью смотрели белые стены, и в их
безупречной белизне была странная и грустная насмешка.
II
День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых
лучей рассвета, и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным
подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусник,
измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании
у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее
- делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и
красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая
градуса выше или ниже делала больного веселым или печальным. Даже вечно
веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой,
если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли
нормальной.
- Вот, отец, штука-то. Аз и ферт, - говорил он Лаврентию Петровичу,
держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.
- А ты подержи еще, поторгуйся, - насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.
И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую
градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за
науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и
все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой
торжественностью.
Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа
градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал
лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан.
Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в
строгом порядке расставил их, а номера - первый, второй, третий... -
попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На
тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и
постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой
палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у
соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.
С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные
окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели,
начищенные медные тазы и полы - все блестело и сверкало в этом свете. К
самым окнам редко кто-нибудь подходил:
улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там
люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд
солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери
магазинов, - здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы
поворотить к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили
по гладким полам; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но
ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь
неправильность в отправлении желудка у соседа волновала и трогала больше,
чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около
одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался
внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда
спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро; о. дьякон
волновался и говорил так много и так невразумительно, с таким желанием
всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно было
понять.
О себе он говорил:
- Когда я пожаловал в клинику.., О няньке передавал:
- Они изволили поставить мне клизму...
Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него
изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался и сколько раз. По
уходе докторов он становился веселее, благодарил, умилялся и бывал очень
доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий
поклон всем докторам, а каждому порознь.
- Так это чинно, - радовался он, - по-небесному!
И еще раз показывал молчащему "Лаврентию Петровичу и улыбающемуся
студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом
доктору Семену Николаевичу.
Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он этого не знал, с
восторгом говорил о путешествии в Троицко-Сергиевскую лавру, которое он
совершит по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась
"белый налив" и с которой нынешним летом он ожидал плодов, И в хороший
день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными
лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени
на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, о.
дьякон громко напевал трогательную песнь:
"Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавлылую нас от
клятвы, владычицу мира лесньми почтим!.."
Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении,
которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам
платок и улыбался. Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну
и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному вебу: просторное, далекое от
земли, безмятежно красивое," оно само казалось величавою божественною
песнью.
И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий
голос, полный трепетной и страстной мольбы:
"От многих моих грехов немошествует тело, нсмо ществует и душа моя: к
тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!.."
Б определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов
электрическая лампочка задергивалась синим матерчатым абажуром и
начиналась такая же длинная и пустая ночь.
Клиники затихали.
Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери
палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка,
громко стуча ногами, проходил кто-нибудь лз служителей, и каждый его шаг
выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам
замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно
стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из
палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны
тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них
таилась страшная загадка:
хрипит ли больной, или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и
холодных стен.
Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном,
все остальные ночи он не сиал, и они полны были новых и жутких мыслей.
Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на
светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни.
Он не верил в бога, не хотел жизни и не боялся смерти. Все, что было в кем
силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без
радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он
воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел
тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей
и презирал тех, кто попадался в его руки, а они платили ему жгучей
ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь - и стали
обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил
их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и
ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную
золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти от жизни, позабыть,
но тихая ночь была жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской
глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы,
подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить
жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и
внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях
бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:
- Ду-ррак!
Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и
еще с большим злорадством поправлялся:
- Дура-ки!
А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут,
принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро
было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой
обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.
Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палатам, реже смеялся, но, когда в
палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил
всех - и солнце и докторов - и вспоминал все чаще о яблоне "белый налив".
Потом он пел "Высшую небес", и темное, осунувшееся лицо его становилось
более светлым, но также и более важным: сразу видно было, что это поет
дьякон, а не псаломщик. Кончив песнь, он подходил к Лаврентию Петровичу и
рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.
- Вот этакая огромная, - показывал он руками, - и по всей буквы, буквы.
Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-богу!
Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:
- А внизу печать архиерейская. Огромадная, ейбогу, - чисто ватрушка.
Одно слово, за милую душу!
Верно, отец?
И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких
морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело,
и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.
III
В поле, в садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи
и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных
железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и
расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе
стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше
редкие и мало заметные, - как будто проходившая здесь толпа разом была
подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в
палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него
прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух
холоден, свеж и сыр.
Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и
душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на
стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но когда по
утрам в палате открывали большую откидную фортку - внезапно, без
переходов, врывался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все
остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он
торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестницам, дерзко
врывался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам.
Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески-дерзкому
крику, а о. дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:
- Воробей! За милую душу, воробей!
Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как
и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его,
торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали
расплывающимися волнами свежего воздуха.
Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них,
протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчаньем ставили
градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это
представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой
палаты, который однажды утром был перенесен сторожами в отдельный номер, а
затем неведомо куда исчез, -"выписался", как говорили няньки. Многие из
больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер;
несли его головою вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза
переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое
безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных не выдерживал их
взгляда - и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но
никого эта смерть не взволновала и не испугала; здесь она была тем
обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это
время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и
на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он
переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту
же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой
истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и
непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в
восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом, - левая сторона
тела была у него парализована.
Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно
громким и победным возгласом:
"С нами бог!", после чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно
закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают
теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться.
За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он
весь тот день восклицал: "С нами бог!" - и смеялся; когда он уже сидел в
ванне, проходившие мимо больные слышали торопливее и полное блаженства
воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним
сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святое. В положении больных
восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий
поправлялся, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели; жизнь
и сила выходили из них с такой зловещей бесшумностью, что они и сами почти
не догадывались об этом, и казалось, что никогда они и не ходили по
палате, а все так же спокойно лежали в постелях.
И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах и
студенты, выслушивали и выстукивали и говорили между собою.
В пятницу, на пятой неделе великого поста, о. дьякона водили на лекцию,
и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто
смеялся, как и в первое время, крестился и благодарил и по временам
подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.
- Чего это вы плачете, отец дьякон? - спросил студент.
- Ах, отец, и не говорите, - с умилением отозвался дьякон, - так это
хорошо, за милую душу! Посадили меня Семен Николаевич в кресло, сами стали
рядом и говорят студентам: "Вот, говорят, дьякон..."
Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился, но слезы снова
навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:
- Уж очень трогательно читают Семен Николаевич} Так трогательно, что
вся душа перевертывается.
Жил, говорят, был дьякон...
Отец дьякон всхлипнул.
- Жил-был дьякон...
Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель,
из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:
- Вею жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену
тоже, спасибо им, упомянули.
Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают.
Жил, говорят... был, говорят... дьякон...
И, пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет,
стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть
стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмою повеяло от
веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом,
Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо
рассмеялся и закашлялся.
Последние дни Лаврентий Петрович сильио волновался и непрестанно
довертывал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу;
изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и
сердился на нянек. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном
осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и
участливо спросил:
- Что с вами?
- Скучно, - сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом,
каким говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его
"дневнике", среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхаеие и
сколько раз его слабило, появилась новая отметка: "Больной жалуется на
скуку".
К студенту пскпрежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее
от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и
почему-то немного грустно смотреть на них. Наклонясь к самому лицу
Торбецкого, она говорила:
- Посмотри, какие горячие щеки.
И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко,
так как стал выздоравливать и силы у него прибавилось. Теперь они не
стеснялись друшх больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно
отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и
насмешкою смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия
Петровича.
В субботу о. дьякон получил из дому письмо. Он ждал его уже целую
неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письма, и беспокоились
вместе с ним.
Приободрявшийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по
палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и
благодаря. Всем давно "же было известно об очень высоком росте его жены, а
теперь он сообщил о ней новую подробность:
- Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть
оглоблей бей, - не подымешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-богу!
Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и восклицал:
- А этакую штуку видел? Отец, а отец?
И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми,
дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки, и
посередине, как раз на ладони, было написано: "Тосик руку приложил".
Перед тем как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят
каким-нибудь делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех
местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага
сохраняла явственные следы пятен.
- Внук-то, хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я
вам этого выразить. Руку приложил, а? - В восторге от остроумной шутки,
отец дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа
неудержимого, тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха,
изжелта-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни
которого еще не сочтены.
И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки
трогательной песни:
"Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от
клятвы, владычицу мира песньми почтим!.."
В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда
взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул
няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о.
дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия
Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о
подробностях осмотра.
- Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: жил,
говорят, был купец...
Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона
взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.
- Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как
откалывать-то начнешь - по-небесному! - продолжал отец дьякон. Он лежал на
спине и мечтательно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда
отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания
слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.
- Да, отец, - медленно, с спокойной радостью говорил отец дьякон, -
если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст, - тебя
всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу.
Квас у меня - так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен!
Отец дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:
- К троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы
осмотрю. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?
Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:
- Торговые. А там, за милую душу - домой!
Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое
дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика,
удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона
вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и
ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном
голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные, жестокие слова:
- На Ваганьково кладбище пойдешь, - вот куда!
- Что ты говоришь, отец? - не понимал дьякон.
- На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора, - ответил Лаврентий
Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с
подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено.
- А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут, - за милую
душу!
Лаврентий Петрович рассмеялся.
- Что ты, что ты, бог с тобой! - бормотал отец дьякон.
- Со мною-то ничего, а вот как тут покойников хоронят, так это потеха.
Сперва руку отрежут, - руку похоронят. Потом ногу отрежут, - ногу
похоронят. Так иного-то незадачливого покойника целый год таскают,
перетаскать не могут.
Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича,
а тот продолжал говорить.
И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.
- Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп,
прямо сказать, до святости. Ну и чего ты ерепенишься: "К троице поеду, в
баню пойду".
Или вот тоже про яблоню "белый налив". Жить тебе всего неделю, а ты...
- Неделя?
- Ну да, неделя. Не я говорю, - доктора говорят.
Лежал я намедни, быдто спал, а тебя в палате не было, - вот студенты и
говорят: а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку протянет.
- Про-тя-не-т?
- А ты думаешь, она помилует? - Слово "сна"
Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он
поднял кверху свой огромный буроватый кулак н, печально полюбовавшись его
массивными очертаниями, продолжал: - Вот, глянь-ка! Приложу кого, так тут
ему аз и хверт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: "К
трои-це, в баню пойду". Получше тебя люди жили, да и те помирали.
Лицо о. дьякона было желто, как шафран; нч говорить, ни плакать он не
мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и
старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в
одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он
поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным
добродушием он повторял:
- Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь:
аз и- хверт? Вот тебе аз и хверт. А ты в баню, - чудасия! Разве вот на
том свете нас с тобая горячими вениками попарят, - это, отчего же, очень
возможно.
Но тут вошел студент, к Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он
попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из
тьмы и насмешливо поглядел на студента.
- А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут? - спросил он
студента с тем же притворным добродушием и нехорошей улыбкой.
- Да, нездорова, - коротко от окна бросил студент хмурый ответ.
- Какая жалость! - покачал головой Лаврентий Петрович. - Что же такое с
ними?
Но студент не ответил: кажется, он не слыхал вопроса. Уже три раза
девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и
сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от
безделья, но в действительности старался заглянуть влево, где находился
невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и
часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема
посетителей, от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно
выпил стакан чаю и лег в постель, не заметив ни странной молчаливости о.
дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.
- Не пришли сестрица! - говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошей
улыбкой.
IV
В эту ночь, томительно долгую и пустую, так же горела лампочка под
синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по
палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень
чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще
жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате Љ 8 никто не спал в эту ночь,
но все лежали тихо и породили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о
присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на
спину, то ниц, густо вздыхал и поправлял сползавшее одеяло.
Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший
организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь подымалась ровно и
легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие: на губах у него появилась
улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой
неподвижности тела и закрытых глазах.
Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо
начавшего дремать Лаврентия Петровича воше
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89915 является ответом на сообщение #79193] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89915 является ответом на сообщение #79193] |
Ср, 04 Июнь 2008 09:03   |
Солана
Сообщений: 7847
Зарегистрирован: Ноябрь 2007
Географическое положение: Москва.
Карма: 0
|
Мне тут нравится
Светлана |
|
|
Очень люблю Салтыкова-Щедрина! Невозможно понять Россию в полной мере тем, кто не читал его! Читать надо ВСЁ, а не одних только "Господ Головлёвых", хотя и "Господа Головлёвы", конечно, шедевр! У меня его собрание сочинений, вот я и читаю-перечитываю его вволю и, можно сказать, постоянно...
Попробуйте, кто не читал.
Вот ссылочка на его "Мелочи жизни":
http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0400.shtml
[Обновления: Ср, 04 Июнь 2008 09:05] Известить модератора |
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89923 является ответом на сообщение #79193] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #89923 является ответом на сообщение #79193] |
Ср, 04 Июнь 2008 09:44   |
Солана
Сообщений: 7847
Зарегистрирован: Ноябрь 2007
Географическое положение: Москва.
Карма: 0
|
Мне тут нравится
Светлана |
|
|
Вот для примера кусочек из автобиографической эпопеи "Пошехонская старина":
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Пошехонская старина.
Мавруша-новоторка.
Она была новоторжская мещанка и добровольно закрепостилась. Живописец Павел (мой первый учитель грамоте), скитаясь по оброку, между прочим, работал в Торжке, где и заприметил Маврушу. Они полюбили друг друга, и матушка, почти никогда не допускавшая браков между дворовыми, на этот раз охотно дала разрешение, потому что Павел приводил в дом лишнюю рабу.
Года через два после этого Павла вызвали в Малиновец для домашних работ. Очевидно, он не предвидел этой случайности, и она настолько его поразила, что хотя он и не ослушался барского приказа, но явился один, без жены. Жаль ему было молодую жену с вольной воли навсегда заточить в крепостной ад; думалось: подержат господа месяц-другой и опять по оброку отпустят.
Но матушка рассудила иначе. Работы нашлось много: весь иконостас в малиновецкой церкви предстояло возобновить, так что и срок определить было нельзя. Поэтому Павлу было приказано вытребовать жену к себе. Тщетно молил он отпустить его, предлагая двойной оброк и даже обязываясь поставить за себя другого живописца; тщетно уверял, что жена у него хворая, к работе непривычная, - матушка слышать ничего не хотела.
- И для хворой здесь работа найдется, - говорила она, - а ежели, ты говоришь, она не привычна к работе, так за это я возьмусь: у меня скорехонько привыкнет.
Мавруша, однако ж, некоторое время упорствовала и не являлась. Тогда ее привели в Малиновец по этапу.
При первом же взгляде на новую рабу матушка убедилась, что Павел был прав. Действительно, это было слабое и малокровное существо, деликатное сложение которого совсем не мирилось с представлением о крепостной каторге.
- Да ведь что же нибудь ты, голубушка, дома делала? - спросила она Маврушу.
- Что делала! хлебы на продажу пекла.
- Ну, и здесь будешь хлебы печь.
И приставили Маврушу для барского стола ситные и белые хлебы печь, да кстати и печенье просвир для церковных служб на нее же возложили.
Мавруша повиновалась, но, по-видимому, она с первого же раза поняла значение шага, который сделала, вышедши замуж за крепостного человека...
Поселили их довольно удобно, особняком. В нижнем этаже господского дома отвели для Павла просторную и светлую комнату, в которой помещалась его мастерская, а рядом с нею, в каморке, он жил с женой. Даже месячину им назначили, несмотря на то, что она уже была уничтожена. И работой не отягощали, потому что труд Павла был незаурядный и ускользал от контроля, а что касается до Мавруши, то матушка, по крайней мере, на первых порах махнула на нее рукой, словно поняла, что существует на свете горе, растравлять которое совесть зазрит.
Павел был кроткий и послушливый человек. В качестве иконописца он твердо знал церковный круг и отличался серьезною набожностью. По праздникам пел на клиросе и читал за обедней апостола. Дворовые любили его настолько, что не завидовали сравнительно льготному житью, которым он пользовался. С таким же сочувствием отнеслись они и к Мавруше, но она дичилась и избегала сближений. Павел, с своей стороны, не настаивал на этих сближениях и исподволь свел ее только с Аннушкой (см. предыдущую главу), так как последняя, по его мнению, могла силою убежденного слова утишить горе добровольной рабы и примирить ее с выпавшим ей на долю жребием.
Я, впрочем, довольно смутно представлял себе Маврушу, потому что она являлась наверх всего два раза в неделю, да и то в сумерки. В первый раз, по пятницам, приходила за мукой, а во второй, по субботам, Павел приносил громадный лоток, уставленный стопками белого хлеба и просвир, а она следовала за ним и сдавала напеченное с веса ключнице. Но за семейными нашими обедами разговор о ней возникал нередко.
- Нечего сказать, нещечко взял за себя Павлушка! - негодовала матушка, постепенно забывая кратковременную симпатию, которую она выказала к новой рабе, - сидят с утра до вечера, друг другом любуются; он образа малюет, она чулок вяжет. И чулок-то не барский, а свой! Не знаю, что от нее дальше будет, а только ежели... ну уж не знаю! не знаю! не знаю!
- Вольная ведь она была, еще не привыкла, - косвенно заступался за Маврушу отец.
- А разве черт ее за рога тянул за крепостного выходить! Нет, нет, нет! По-моему, ежели за крепостного замуж пошла, так должна понимать, что и сама крепостною сделалась. И хоть бы раз она догадалась! Хоть бы раз пришла: позвольте, мол, барыня, мне господскую работу поработать! У меня тоже ведь разум есть; понимаю, какую ей можно работу дать, а какую нельзя. Молотить бы не заставила!
- Хлебы она печет, просвиры...
- Это в неделю-то на три часа и дела всего; и то печку-то, чай, муженек затопит... Да еще что, прокураты, делают! Запрутся, да никого и не пускают к себе. Только Анютка-долгоязычная и бегает к ним.
- Не трогай их, ради Христа! Пускай он иконостас кончит.
- Иконостас - сам по себе, а и она работать должна. На-тко! явилась господский хлеб есть, пальцем об палец ударить не хочет! Даром-то всякий умеет хлеб есть! И самовар с собой привезли - чаи да сахары... дворяне нашлись! Вот я возьму, да самовар-то отниму...
Иногда матушка подсылала ключницу посмотреть; что делают "дворяне", Акулина исполняла барское приказание, но не засиживалась и через несколько минут уже являлась с докладом.
- Ну что?
- Ничего. Сидят смирно, промежду себя разговаривают.
- Вот я им дам "разговаривают"! Да ты бы подольше у них побыла, хорошенько бы высмотрела.
- Нечего смотреть. Сидят тихо; он образ пишет, она краску трет.
- Небось, чаем потчевали?
- Не пивала ихнего чаю; не знаю. - И ты с ними заодно... потатчица!
Но, как я уже сказал, особенных мер относительно Мавруши матушка все-таки не принимала и ограничивалась воркотней. По временам она, впрочем, призывала самого Павла.
- Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть? - приступала она к нему.
- Простите ее, сударыня! - умолял Павел, становясь на колени.
- Нет, ты мне отвечай: долго ли дворянка твоя будет праздновать?
- Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет.
- Это в неделю-то три-четыре часа... А ты знаешь ли, как другие работают!
- Знаю, сударыня, да хворая она у меня.
- Вот я эту хворь из нее выбью! Ладно! подожду еще немножко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош гусь! чем бы жену уму-разуму учить, а он целуется да милуется... Пошел с моих глаз... тихоня!
Натурально, эти разговоры и сцены в высшей степени удручали Павла. Хотя до сих пор он не мог пожаловаться, что господа его притесняют, но опасение, что его тихое житие может быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Он упал духом и притих больше прежнего.
Шли месяцы; матушка все больше и больше входила в роль властной госпожи, а Мавруша продолжала "праздновать" и даже хлебы начала печь спустя рукава.
Павел не раз пытался силою убеждения примирить жену с новым положением (рассказывали, что пробовал и "учить" ее), но все усилия его в этом смысле оказались напрасными. По-видимому, она еще любила мужа, но над этою привязанностью уже господствовало представление о добровольном закрепощении, силу которого она только теперь поняла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кроме рабского ярма, до такой степени давила ее, что самая искренняя любовь легко могла уступить место равнодушию и даже ненависти. Покамест еще до этого не дошло, но очевидно было, что насильственное водворенье в Малиновце открыло ей глаза.
Подобно Аннушке, она обзавелась своим кодексом, который сложился в ее голове постепенно, по мере того как она погружалась в обстановку рабской жизни. Ей вдруг сделалось ясно, что, отказавшись, ради эфимерного чувства любви, от воли, она в то же время предала божий образ и навлекла на себя "божью клятву", которая не перестанет тяготеть над нею не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-нибудь чудом не "выкупится". Стало быть, отныне все заветнейшие мечты ее жизни должны быть устремлены к этому "выкупу", и вопрос заключался лишь в том, каким путем это чудо устроить. Самым естественным выходом представлялся следующий: нести рабское иго лишь настолько, чтобы уступать исключительно насилию. Отчасти она уже выполнила эту задачу, отказавшись явиться к господам добровольно; теперь точно так же предстоит ей поступить, ежели господа вздумают ее заставлять господскую работу работать. Не станет она работать, не станет. Даже если ее истязать будут, она и истязанья примет, ради изведения души своей из тьмы, в которую погрузила ее "клятва".
Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала вперед, но решимости у нее хватит...
Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем - неизвестно, но, во всяком случае, Павел подозревал, что в уме ее зреет какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предвещает ничего доброго; естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры.
- Не стану я господскую работу работать! не поклонюсь господам! - твердила Мавруша, - я вольная!
- Какая же ты вольная, коли за крепостным замужем! Такая же крепостная, как и прочие, - убеждал ее муж.
- Нет, я природная вольная; вольною родилась, вольною и умру! Не стану на господ работать!
- Да ведь печешь же ты хлебы! хоть и легкая это работа, а все-таки господская.
- И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил: попеки да попеки! а я тебя, дура, послушалась. Буду печь одни просвиры для церкви божьей.
- А ежели барыня отстегать тебя велит?
- И пускай. Пускай как хотят тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут - я воли своей не отдам!
И действительно, в одну из пятниц ключница доложила матушке, что Мавруша не пришла за мукой.
- Это еще что за моды такие! - вспылила матушка.
- Не знаю. Говорит: не слуга я вашим господам. Я вольная.
- А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и оболтуса-мужа кстати позвать.
Предсказание Павла сбылось: Маврушу высекли. Но на первый раз поступили по-отечески: наказывали не на конюшне, а в девичьей, и сечь заставили самого Павла. Когда экзекуция кончилась, она встала с скамейки, поклонилась мужу в ноги и тихо произнесла:
- Спасибо за науку!
Но хлебов все-таки более не пекла.
С этих пор она затосковала. К прежней сокрушавшей ее боли прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так легко решившийся исполнить господское приказание. По мнению ее, он обязан был всякую муку принять, но ни в каком случае не прикасаться лозой к ее телу. .
- Срамник ты! - сказала она, когда они воротились в свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их жизни наступил бесповоротный конец. Целые дни молча проводила Мавруша в каморке и не только не садилась около мужа во время его работы, но на все его вопросы отвечала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в будущем не предвиделось; даже представить себе Павел не мог, чем все это кончится. Попытался было он попросить "барина" вступиться за него, но отец, по обыкновению, уклонился.
- Рабы вы, - ответил он, - и должны, яко рабы, господам повиноваться.
- Это так точно, - попробовал возразить Павел, - но ежели такой случай вышел.
- Никакого случая нет, просто с жиру беситесь! А впрочем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь; ничего я не знаю; ступай, проси барыню, коли что...
Матушка между тем каждодневно справлялась, продолжает ли Мавруща стоять на своем, и. получала в ответ, что продолжает. Тогда вышло крутое решение: месячины непокорным рабам не выдавать и продовольствовать их, наряду с другими дворовыми, в застольной. Но Мавруша и тут оказала сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную добровольно не пойдет.
- Да ведь захочет же она жрать? - удивлялась матушка.
- Не знаю. Говорит: "Ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду!"
- Врет, лиходейка! Голод не тетка... будет жрать! Ведите в застольную!
Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидела она не евши и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокоилась и призвала Павла.
- Да что она у тебя, порченая, что ли? - спросила она.
- Не знаю, сударыня. Хворая, стало быть.
- Хворые-то смирно сидят, не бунтуют; нет, она не хворая, а просто фордыбака... Дворянку разыгрывает из себя.
- С чего бы, кажется...
- Насквозь я ее мерзавку, вижу! да и тебя, тихоня! Берегись! Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет в солдаты отдам, что любо!
- Отпустите нас, сударыня! Я и за себя, и за нее оброк заплачу.
- Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу! Сгною в Малиновце. Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую!
Но всё это был только разговор, а нужно было какой-нибудь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка в помещичьей своей практике не встречала и потому находилась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было допущено на первых порах по водворении последней в господской усадьбе; но она зашла уж так далеко в своих угрозах, что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на фордыбаку, скажут: и мы будем склавши ручки сидеть! Нет! надо во что бы ни стало сокрушить упорную лиходейку; надо, чтоб все осязательно поняли, что господская власть не праздное слово.
И тем не менее все-таки пришлось, в конце концов, отступить.
Распоряжения самые суровые следовали Одни за другими, и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время притупила в ней способность предусматривать, какие последствия могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким своенравным сопротивлением, она совсем растерялась.
- Ведите, ведите ее на конюшню! - приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила: - Ин прах ее побери! не троньте! подожду, что еще будет!
Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась... "А ну, как она, в самом деле, голодом себя уморит!" - мелькнуло в ее голове.
Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла.
- Ест? - беспрерывно осведомлялась она у ключницы.
- Отказывается покуда.
- Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать ему, негодяю, что если он хоть корку Хлеба ей передаст, то я - видит бог! - в Сибирь обоих упеку!
Но едва вслед за тем приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже перед ними она уже не скрывалась) и говорила:
- Снеси... ну, этой!., щец, что ли... Да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя...
Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы.
Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы ни стало покончить с обступившей со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушке: она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала:
- Который уж месяц я от вас муку мученскую терплю! Надоело. Живите как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадется - уж не прогневайся! Прав ли ты, виноват ли... обоих в Сибирь законопачу!
И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без жены.
- А она пускай как знает, так и живет. Задаром хлебом кормить не буду.
Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что необходимо, чтоб впечатление, произведенное странным переполохом на дворню, улеглось.
С своей стороны, и Мавруша присмирела или, лучше сказать, совсем как бы перестала существовать. Сидела как узница в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и горькими мыслями о погубленной молодости.
Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься вниз, в Павлову комнату, чтоб посмотреть на Маврушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги перед окном заповедной каморки и вглядывался в затканные паутиной стекла, скрывавшие от меня ее внутренность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо стонет.
Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась от него, но даже совсем перестала с ним говорить. Победа, которую она одержала над властной барыней, наводившей трепет на все окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей как снег на голову. Положение вещей нимало от этого не изменилось. И до победы Мавруша была раба, и после победы осталась рабою же - только бунтующеюся. Поэтому сомнение ее насчет "божьей клятвы" осталось в прежнейт силе.
Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей представился Павел, как главный виновник сокрушившего ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фазисы равнодушия и, наконец, превратилась в положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, наружным видом, телодвижениями, всем доказывала, что в ее сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого и непримиримого отвращения.
Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой или не "испортила" его; но Павел отрицал возможность подобной развязки и не принимал никаких мер к своему ограждению. Жизнь с ненавидящей женщиной, которую он продолжал любить, до такой степени опостылела ему, что он и сам страстно желал покончить с собою.
- До этого она не дойдет, - говорил он, - а вот я сам руки на себя наложу - это дело статочное.
Но и до этого дело не дошло, а разрешилось гораздо проще.
Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбужен поднявшеюся в доме беготней. Вскочив с постели, полуодетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки узнал, что Мавруша повесилась.
Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, прибавить, что за утренним чаем, на мой вопрос: когда будут хоронить Маврушу? - матушка отвечала:
- А вот завтра обернут в рогожу и свезут в болото.
И действительно, на другое утро приехал из земского суда сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на роспуски и увезли в болото.
[Обновления: Ср, 04 Июнь 2008 09:53] Известить модератора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #90021 является ответом на сообщение #89972] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #90021 является ответом на сообщение #89972] |
Ср, 04 Июнь 2008 13:24   |
натуля
Сообщений: 3596
Зарегистрирован: Март 2008
Географическое положение: ххххх
Карма: 0
|
Мне тут нравится |
|
|
|
Солана писал(а) Срд, 04 Июнь 2008 11:53Masca76 писал(а) Срд, 04 Июнь 2008 11:51Ничего. Просто хочется чтобы была хоть какая-то надежда на лучшее
Не плачьте! Щас я Вас обрадую! Крепостное право таки отменили в 1861 году! А окончательно к лучшему всё изменила Великая Октябрьская Социалистическая Революция!
Свет, ты это серьезно про рэволюцию?
|
|
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #90194 является ответом на сообщение #90029] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #90194 является ответом на сообщение #90029] |
Ср, 04 Июнь 2008 17:07   |
Masca76
Сообщений: 1203
Зарегистрирован: Февраль 2008
Географическое положение: Москва
Карма: 0
|
Мне тут нравится |
|
|
Вот, для сурьезных
Ф.М. Достоевский "Дневник писателя".
Это прочитать НАДО каждому. Читать тяжело , но потом не оторветесь. Читать лучше по книге.
Нашла в инете ссылку, правда не знаю, все ли здесь
http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostdn01.htm
А это про "Дневник писателя"( вроде Солана теперь сама дает длинный текст):
Каждый выпуск этого журнала представлял собой, с одной стороны, своеобразный отчет о духовной, творческой, интеллектуальной жизни Достоевского (сюда входили статьи, художественные произведения, литературная критика, комментарии к громким судебным процессам, отчеты о поездках, политические обзоры); с другой - отражал широчайшую панораму жизни страны и мира. "Дневник писателя" читала вся образованная Россия, Достоевский получал сотни писем из всех уголков страны, нередко эти письма сами становились основой для будущих выпусков; по существу, это была открытая беседа писателя со всей Россией. Читая сегодня главы "Дневника…", поражаешься, насколько злободневно они звучат - идет ли речь о защите Россией сербов и других славянских народов на Балканах и реакции на это Запада, о социально-политических и экономических проблемах внутри страны, о роли Церкви и распространении сектантства, о взаимоотношениях народа и интеллигенции. Почти каждую статью можно без особых изменений публиковать в сегодняшних газетах - она будет раскрывать суть проблемы глубже, яснее, масштабнее нынешних авторов, ибо Достоевский самые малые и самые великие вопросы времени всегда решал в свете вечности, в свете Христовой истины.
Говоря о "Дневнике писателя", необходимо отметить вот что: порой встречающиеся тут резкие высказывания ("полячишки", "жиды" и т.п.) не свидетельствуют о национализме автора: в каждом народе (в том числе и в русском) он обличал тех, кто узкоэгоистические или узконациональные интересы ставил выше христианской любви и всечеловеческого братства.
[Обновления: Ср, 04 Июнь 2008 17:31] Известить модератора |
|
|
|
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #101674 является ответом на сообщение #100152] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #101674 является ответом на сообщение #100152] |
Сб, 05 Июль 2008 22:36   |
ТаняП
Сообщений: 117
Зарегистрирован: Июнь 2008
Географическое положение: Россия
Карма: 0
|
Мне тут нравится |
|
|
|
Читаешь "Маленьких женщин" - такие старые добрые книги. Отдыхаешь. Есть чему поучиться всем женщинам у миссис Марч, прям все то, чего бы мне услышать от мамы, когда я путалась в своих потемках. По себе видишь каких ошибок наделала моя мама со мной (хотя из ее лучших намерений), чтоб самой потом не налопатить тех же ошибок. Очень добрые книги. Подарю своим крестницам, своих детей пока нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #148057 является ответом на сообщение #148047] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #148057 является ответом на сообщение #148047] |
Чт, 13 Ноябрь 2008 17:31   |
ТаняП
Сообщений: 117
Зарегистрирован: Июнь 2008
Географическое положение: Россия
Карма: 0
|
Мне тут нравится |
|
|
|
Я тоже люблю Ремарка. А вот его последний роман "Обетованная земля" никак не могу одолеть, лежит она, начинаю читать, дохожу где-то до середины, и все, дальше не идет, не читается. Может чуть погодя смогу осилить... Пока отложила в сторону.
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #149440 является ответом на сообщение #79193] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #149440 является ответом на сообщение #79193] |
Ср, 19 Ноябрь 2008 23:11   |
 Меланя
Меланя
Сообщений: 372
Зарегистрирован: Октябрь 2007
Географическое положение: Московская об...
Карма: 0
|
Мне тут нравится |
|
|
|
Присоединяю свои интересные, ИМХО конечно, художественные книги:
Маркес "Сто лет одиночества" - книга уникальная по своему написанию, сначала первые 100 страниц ты путаешься в именах, кажется что всех зовут одинаково, отчего ты теряешь смысл и хочешь бросить читать, но стоит "потерпеть" и к концу книги ты с удивлением и грустью понимаешь что все книга кончалась, книга не для всех, я имею ввиду что она может и не пойти, как грится всему свое время и свое настроение.
Улицкая - любая книга, о жизни, о человеческих отношениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #154629 является ответом на сообщение #154621] Re: Книги, которые мне нравятся... Хочу поделиться с вами [сообщение #154629 является ответом на сообщение #154621] |
Вт, 02 Декабрь 2008 01:39   |
Елизавета Бам
Сообщений: 5554
Зарегистрирован: Март 2008
Географическое положение: Лучший город �...
Карма: 0
|
Мне тут нравится
Солана |
|
|
Vest писал(а) Втр, 02 Декабрь 2008 00:33По-моему, потомок. Потомок? У Лермонтова Были дети?
Или это от какой-то боковой ветки?
Впрочем, неважно. Просто я удивилась этой фамилии. Никогда не слышала...
Я вообще плохо знакома с современной литературой, кинематографом и прочим искусством...
Как-то так приняла для себя, что всё сегодняшнее, в принципе, не сравнимо с Золотым и Серебряным веком, а так жа советским периодом (это больше, конечно, касается театра и кинематографа), ну и не даю себе особого труда убеждаться в правоте или неправоте этого мнения...
Но иногда дочка что-нибудь притащит интересное или чисто для отдыха какую-нибудь беллетристику неплохую почитаю, типа Акунина, Лукьяненко... А так, всё больше старая добрая и вечная классика.
Рекомендую!
(Шукшин не нравится. )
[Обновления: Вт, 02 Декабрь 2008 01:40] Известить модератора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переход к форуму:
Текущее время: Сб янв 11 08:08:29 MSK 2025
Общее время, затраченное на создание страницы: 0.02728 секунд
|
 Правоверие
Правоверие
 Участники
Участники Поиск
Поиск F.A.Q.
F.A.Q. Регистрация
Регистрация Вход
Вход Начало
Начало